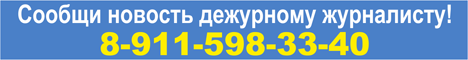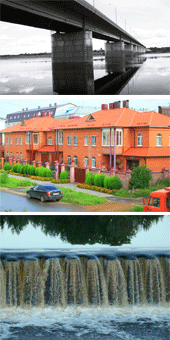Автор:
Записала Светлана ШИПИЦЫНА
Война не измеряется одними битвами и сражениями. И я хочу показать вам другую войну – ту, о которой узнала от своей бабушки, когда она еще была жива. Вот ее рассказ.
Сама я родом из поселка Шипицыно, сегодня встречающего вас полуразрушенным кирпичным заводом, бесконечными, поющими зелеными лугами, поседевшими, сморщенными от старости и непогоды домами, умирающими вслед за своими хозяевами. На месте дома, где прежде жила наша семья, теперь стоит новый. За полвека по этой земле не раз бегали босиком дети, в небе над ней звучали песни и смех. Но и не раз эта же земля пропитывалась слезной сыростью. Слезами она была омыта и во время войны.
Я предстала ее суровому взору шестилетней девчушкой с наивными серыми глазами. 22 июня 1941 года вместо обычной утренней суеты в доме стояло какое-то пугающее, холодящее кровь молчание. За столом, нахмурившись, сидел отец, рядом с ним – сестра Валя. Они молчали. Из кухни вышла мама и произнесла фразу, разрубившую мою жизнь на «до» и «после»: «Началась война…»
Отец почти сразу ушел провожающим обоза с продуктами и вещами для фронта. За ним следом тянулась вереница таких же повозок, увозивших мужчин из деревни, тоже на фронт.
Я помню, как женщины – их жены, матери, сестры – бежали за ними вслед, рыдая, падая, запинаясь друг за друга. Они провожали свои сердца в неизвестность…
Отец ушел, и мать осталась одна с шестью детьми.
1 сентября я впервые пошла в школу. Ходить было далеко, однако дорога обычно превращалась в веселое путешествие: мы с моей сестрой Лией (она старше меня на три года) пели песни, бегали босиком по лужам, вплетали в венки последние осенние цветы.
В первые месяцы войны мы не слышали и не чувствовали тяжелых шагов приближавшегося голода.
От отца пришло письмо. В нем говорилось, что он решил остаться в Ленинграде – помогать госпиталю.
Нам сообщили о блокаде Ленинграда. Вечерами мы собирались у радио.
Я помню каждое сообщение о пройденных немцами километрах и каждую слезинку, улетевшую за ним вслед.
Настала зима. В то время морозы были куда крепче, чем сейчас, когда при минус 30 все впадают в панику. Я помню год, когда Двина встала еще в октябре. Топить было нечем. Одежды тоже не было. У нас с сестрой были одни валенки на двоих, поэтому в школу ходили по очереди, через день. Рваные чулки не спасали от холода. Когда бежишь босиком по снегу, кажется, будто тысячи кинжалов вонзаются разом в твои ноги. Дыхание останавливается, мысли путаются. Мечта одна – поскорее добежать до школы. Оказываясь с холода в более теплом помещении, мы плакали, чувствуя, как оттаивают почти каменные посиневшие руки.
Впрочем, в школе тоже было холодно. Учебников не хватало, не говоря уж о тетрадях. Писали на полях старых газет. На весь класс был только один учебник. Им тоже пользовались по очереди. Когда книга доходила до меня, она становилась раза в два толще, чем была.
Первые две зимы выдались очень тяжелыми. Когда мы возвращались из школы, нам навстречу иногда попадалась почтальонша. Как только она появлялась в деревне, все замирали, следя за каждым ее шагом, пытаясь предугадать, к какому дому она подойдет. Из ворот к ней выходили женщины, собравшие последние крупинки надежды. Они смотрели ей в глаза. В тот миг вокруг царила жуткая, траурная тишина. Было слышно, как шелестят письма в кожаной сумке почтальонши. И порой эта самая тишина рассыпалась хрустальным смехом, подпитанным слезами той счастливицы, которой пришла весточка. Но порой в грозное молчание пулей врезался жуткий, отчаянный крик. И под звон осколков разбитого сердца толпа приговором выносила: «Опять похоронка…»
Зимой 43-го нам было жутко тяжело. Холода дополнялись невыносимым голодом, трубившим изо всех окон. Чтобы выжить, мы ползали под окнами, пытаясь найти что-нибудь съестное. Гнилая, мороженая картошка была нашим единственным пропитанием. А когда не было и ее, ели гнилую картофельную шелуху: сушили ее на печке, варили. Я до сих пор с содроганием вспоминаю, как убирала с промерзших гнилых картофелин червей, как прямо сырую, отвратительно скользкую картошку запихивала в рот.
В начале 44-го года старшие Валя и Гена пошли работать на завод, точить снаряды. Они долго бились за дополнительные карточки. Впоследствии сестру наградили медалью за доблестный труд во время войны. Мать сдала половину дома маслозаводу, надеясь на дополнительный паек. Но вместо этого ей ставили трудо-дни. Маленьким Толику и Валику (в то время им было 4 и 3 года) не хватало витаминов, поэтому они не ходили. Женщины, работавшие на заводе, иногда поили их пахтой. И те, с полными животами, корчась и плача от боли, уползали по скользкому полу на нашу половину дома. Когда старшим сестре и брату стали давать карточки, жить стало легче, и голод постепенно отступил.
Уже после войны нам написали, что госпиталь, где помогал отец, разбомбили еще в начале 42-го...
Мои братья и сестры прожили трудную жизнь, но в ней порой проблескивали искорки счастья. Жизнь – вечная река, текущая к своим истокам. Но я надеюсь, что нынешним и будущим поколениям не начертано пережить того, что довелось пережить нам – матерям, женам и детям войны…
Война не измеряется одними битвами и сражениями. И я хочу показать вам другую войну – ту, о которой узнала от своей бабушки, когда она еще была жива. Вот ее рассказ.
Сама я родом из поселка Шипицыно, сегодня встречающего вас полуразрушенным кирпичным заводом, бесконечными, поющими зелеными лугами, поседевшими, сморщенными от старости и непогоды домами, умирающими вслед за своими хозяевами. На месте дома, где прежде жила наша семья, теперь стоит новый. За полвека по этой земле не раз бегали босиком дети, в небе над ней звучали песни и смех. Но и не раз эта же земля пропитывалась слезной сыростью. Слезами она была омыта и во время войны.
Я предстала ее суровому взору шестилетней девчушкой с наивными серыми глазами. 22 июня 1941 года вместо обычной утренней суеты в доме стояло какое-то пугающее, холодящее кровь молчание. За столом, нахмурившись, сидел отец, рядом с ним – сестра Валя. Они молчали. Из кухни вышла мама и произнесла фразу, разрубившую мою жизнь на «до» и «после»: «Началась война…»
Отец почти сразу ушел провожающим обоза с продуктами и вещами для фронта. За ним следом тянулась вереница таких же повозок, увозивших мужчин из деревни, тоже на фронт.
Я помню, как женщины – их жены, матери, сестры – бежали за ними вслед, рыдая, падая, запинаясь друг за друга. Они провожали свои сердца в неизвестность…
Отец ушел, и мать осталась одна с шестью детьми.
1 сентября я впервые пошла в школу. Ходить было далеко, однако дорога обычно превращалась в веселое путешествие: мы с моей сестрой Лией (она старше меня на три года) пели песни, бегали босиком по лужам, вплетали в венки последние осенние цветы.
В первые месяцы войны мы не слышали и не чувствовали тяжелых шагов приближавшегося голода.
От отца пришло письмо. В нем говорилось, что он решил остаться в Ленинграде – помогать госпиталю.
Нам сообщили о блокаде Ленинграда. Вечерами мы собирались у радио.
Я помню каждое сообщение о пройденных немцами километрах и каждую слезинку, улетевшую за ним вслед.
Настала зима. В то время морозы были куда крепче, чем сейчас, когда при минус 30 все впадают в панику. Я помню год, когда Двина встала еще в октябре. Топить было нечем. Одежды тоже не было. У нас с сестрой были одни валенки на двоих, поэтому в школу ходили по очереди, через день. Рваные чулки не спасали от холода. Когда бежишь босиком по снегу, кажется, будто тысячи кинжалов вонзаются разом в твои ноги. Дыхание останавливается, мысли путаются. Мечта одна – поскорее добежать до школы. Оказываясь с холода в более теплом помещении, мы плакали, чувствуя, как оттаивают почти каменные посиневшие руки.
Впрочем, в школе тоже было холодно. Учебников не хватало, не говоря уж о тетрадях. Писали на полях старых газет. На весь класс был только один учебник. Им тоже пользовались по очереди. Когда книга доходила до меня, она становилась раза в два толще, чем была.
Первые две зимы выдались очень тяжелыми. Когда мы возвращались из школы, нам навстречу иногда попадалась почтальонша. Как только она появлялась в деревне, все замирали, следя за каждым ее шагом, пытаясь предугадать, к какому дому она подойдет. Из ворот к ней выходили женщины, собравшие последние крупинки надежды. Они смотрели ей в глаза. В тот миг вокруг царила жуткая, траурная тишина. Было слышно, как шелестят письма в кожаной сумке почтальонши. И порой эта самая тишина рассыпалась хрустальным смехом, подпитанным слезами той счастливицы, которой пришла весточка. Но порой в грозное молчание пулей врезался жуткий, отчаянный крик. И под звон осколков разбитого сердца толпа приговором выносила: «Опять похоронка…»
Зимой 43-го нам было жутко тяжело. Холода дополнялись невыносимым голодом, трубившим изо всех окон. Чтобы выжить, мы ползали под окнами, пытаясь найти что-нибудь съестное. Гнилая, мороженая картошка была нашим единственным пропитанием. А когда не было и ее, ели гнилую картофельную шелуху: сушили ее на печке, варили. Я до сих пор с содроганием вспоминаю, как убирала с промерзших гнилых картофелин червей, как прямо сырую, отвратительно скользкую картошку запихивала в рот.
В начале 44-го года старшие Валя и Гена пошли работать на завод, точить снаряды. Они долго бились за дополнительные карточки. Впоследствии сестру наградили медалью за доблестный труд во время войны. Мать сдала половину дома маслозаводу, надеясь на дополнительный паек. Но вместо этого ей ставили трудо-дни. Маленьким Толику и Валику (в то время им было 4 и 3 года) не хватало витаминов, поэтому они не ходили. Женщины, работавшие на заводе, иногда поили их пахтой. И те, с полными животами, корчась и плача от боли, уползали по скользкому полу на нашу половину дома. Когда старшим сестре и брату стали давать карточки, жить стало легче, и голод постепенно отступил.
Уже после войны нам написали, что госпиталь, где помогал отец, разбомбили еще в начале 42-го...
Мои братья и сестры прожили трудную жизнь, но в ней порой проблескивали искорки счастья. Жизнь – вечная река, текущая к своим истокам. Но я надеюсь, что нынешним и будущим поколениям не начертано пережить того, что довелось пережить нам – матерям, женам и детям войны…